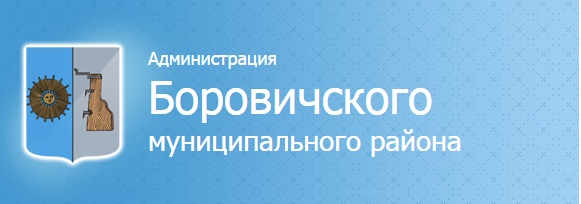ГОРЬКИЙ ДЫМ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА КРАСНОВА
Журнал «Огонёк» с перерывом в 18 лет, возобновивший свою знаменитую «Библиотечку…», заявил ее как представляющую образцы современной русской прозы. В «образцы» попали рассказы Михаила Зощенко, Ильфа и Петрова… Кто бы спорил? Нет ничего современнее классики. «Письма счастья» Дмитрия Быкова, писателя, может быть, и попадающего в шорт – лист образцовости, но ведь не с абсолютно журналистскими по происхождению сатирическими стихами? А «Горький дым памяти» – книга рассказов редактора одной из новгородских районных газет Владимира Краснова оказалась абсолютным попаданием в заявленный формат: и образцов, и прозы, и современной русской. (Елена Яковлева. «Российская газета», 16 апреля 2008 года.)
В рецензии к этой книге известный критик-литературовед Глеб Горышин написал: «Рассказы ваши хороши… Рассказы это или что-то другое, не суть важно. Когда их читаешь, кажется, что автор прожил литературную жизнь, хорошо поработал над словом, научился отбирать, ограничивать себя, говорить о самом главном, то есть подспудном, что хранится на донышке сердечной памяти»...
Выяснилось, что у писателя, чьи рассказы попали в серию образцов, была до этого лишь одна книжка «Вот опять приходит весна», изданная в Питере в 2001 году тиражом… 300 экземпляров. Её-то и презентовал Владимир Павлович Краснов автору этих строк, подписав: «Брату-журналисту Толе Примоченко с дружеским расположением. 26 марта 2001 года».
…В конце 90-х годов у меня с Владимиром Красновым было несколько мимолетных встреч, но по-настоящему мы подружились после участия в I Международном конгрессе православной прессы, проходившем под девизом «Христианская свобода и независимость журналистики», в Москве в марте 2000 года в актовом зале Московского государственного университета. Мы, оба боровичанина, неожиданно встретились как делегаты столь представительного мероприятия, организованного в год великого юбилея – 2000-летия Рождества Христова. (В. Краснов – в то время собственный корреспондент «Новгородских ведомостей», и я, автор этих строк – уполномоченный Профессионального Союза журналистов России в Новгородской области). «В профсоюз журналистов я, конечно, вступлю, – сказал он мне тогда – вот только жаль, что творческий Союз журналистов, в котором я был с 1981 года, в Новгородской области распался».
Я, уже несколько лет живущий в Боровичах, но оставшийся в рядах Московского отделения Союза журналистов России (не путать с Союзом журналистов Москвы) предложил ему прежнее удостоверение перерегистрировать в нашей организации (Союз журналистов Новгородской области возобновил свою работу лишь в 2003-м). Ровно через год Владимир Павлович Краснов стал исполняющим обязанности, а с мая того же 2001 года – главным редактором «Красной искры».
… Зная о непоседливости Владимира Краснова, я недавно позвонил ему на мобильный телефон. Он меня выслушал, а в конце разговора сказал: «У меня в Питере выходит новая книга, так что жди приглашения на ее презентацию».
Увы… Судьба распорядилась иначе.
Анатолий ПРИМОЧЕНКО.
Владимир Краснов, рассказы:
ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ
Вспоминается Новгород, холодная зима семьдесят третьего года, наша промерзшая до железобетонных костей общага, занавешенные одеялами окна, из которых сифонило, как из беляевской ноздри Ай-Тойона, красноватый отблеск электроплиток на озабоченных лицах студенток и беспечных физиономиях студентов – этими запрещенными в общаге электрическими снарядами мы согревались, бубня себе под нос: «Не лепо ли ны бяшет, братие, начати старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославлича…» или повторяя, как таблицу умножения, классификацию индоевропейских языков: «ассамский, бенгальский, хинди, урду…».
Это была первая в моей жизни сессия, и я запомнил ее со всеми самыми незначительными подробностями. Вечерами Серега Фролов (был у нас такой студент) читал по общежитскому радио «Песнь торжествующей любви». Вкрадчивый голос вечно лохматого и не всегда трезвого Сереги привносил в высокую тургеневскую прозу что-то обыденное, простое, если не сказать простецкое, приближая русскую литературу к живой жизни со всеми ее запахами и звуками…
А пахло в нашей общаге, как во всякой студенческой общаге тех лет, скудным холостяцким жильем, затоптанными полами и общественными туалетами, в которых вечно шумела вода… Вечно шумела и жизнь общежитская. По утрам, когда пятиэтажный муравейник будили богатырские трели железных советских будильников, своды общежития оглашались голосами, топотом ног, хлопаньем дверей… Днем шум ненадолго стихал, но к вечеру, когда кончались занятия в институте, он вновь нарастал, соревнуясь к ночи с шумом морского прибоя. В холле второго этажа, населенного больше студентами, нежели студентками, затевались танцы… Тоскующий голос Радмилы Караклаич, певшей сперва по-французски, а потом, с милым югославским акцентом, по-русски: «Падает снег, ты не придешь сегодня вечером, мы не увидимся, я знаю…», манил, завораживал, помогая забыть о чугунной тяжести несданных зачетов и грядущих экзаменов…
Звучала музыка, падал за окнами снег, оттаивала заледеневшая до жути душа… Но танцы, как затишье перед бурей, прекращались властной комендантской рукой, вырывающей вилку проигрывателя из электрической розетки с назиданиями не шататься по ночам, «а то кому-то худо будет…». Обрывалась на полуслове песня, стихал в коридорах гомон и смех. Все разбредались по своим углам, вытаскивали из-под кроватей запрещенные электроплитки, грея над ними озябшие руки, и вновь склонялись над учебниками и конспектами, повторяя на память даты и имена, имена и даты…
И поглядывали на часы.
Ровно в десять щелкал в радиодинамике незримый тумблер, и сквозь шуршание страниц откуда-то издалека доносилась до нас «Песнь торжествующей любви». Каждый слушал ее по-своему, каждый по-своему внимал ей, предчувствуя то, чего еще нет, но обязательно будет…
АКВАРЕЛЬ
…И он вспомнил весь этот долгий, фантастически долгий день со всем, что вошло в него вместе с дождем, перепадавшим временами, вместе с солнцем по-летнему теплым, которое пригревало их, сидящих на скамейке, в виду Петропавловской крепости, отгремевшей к ночи нежданным, точно в их честь, салютом…
Трескучую канонаду этого салюта они слышали, когда выходили на Кронверкский проспект, носивший некогда имя пролетарского писателя. Имя писателя, основательно теперь позабытого, осталось лишь за станцией метро, круглой, как шляпа писателя на самом известном его портрете работы не менее известного, нежели изображенный им писатель, художника, жившего некогда в Доме художника на Песочной набережной.
И об этом знаменитом доме и его известных всей стране обитателях он рассказывал ей, перескакивая с пятого на десятое, со смутной потребностью сказать нечто большее, чем был способен сказать в тот день. Тень недосказанности витала в их разговорах, как тень облаков проплывающих над их головами медлительно и печально.
«В золотых небесах за окошком моим облака проплывают одно за другим…» – вспоминал он строчку из любимого стихотворения и никак не мог вспомнить следующую за ней строчку. Он точно забыл обо всем, что было прежде, до этой простой с виду садовой скамейки, засыпанной палым листом, на которую, кроме них и голубя, нахохлившегося рядом, никто не посягал. Люди садились на скамейки слева и справа, обходя их стороной, точно их и не было в этом, грохочущем автомобилями и пролетающими над головой вертолетами, мире.
Они были в каком-то ином, куда более сложном и непостижимом разумом мире, где не было ничего, кроме милого ее голоса, сияния ее серо-голубых глаз, ее улыбки, беленького платочка на шее, черной курточки и юбки с кружевами из викторианской эпохи…
И об этом они говорили, и о том, что двумя неделями раньше, в другом сквере, она наблюдала картинку из той, давно ушедшей эпохи, в которой были уместны камзолы, кринолины, длинные, до пят, юбки, шумящие при ходьбе…
– Бабушка, да какая там бабушка – просто женщина в возрасте, сидела на такой же вот скамейке и вязала что-то. К ней подсел молодой человек цыганской наружности, заговорил с ней, и она, не прерывая своего занятия, отвечала ему, – говорила она своим милым, немного грустным голосом. И он явственно увидел и ее, сидящую напротив в слегка вздернутой (чтобы коленки загорали) светлой юбке, и бабушку, позвякивающую спицами, и цыгана с черными глазами, и девиц, курящих по соседству, и город, звенящий трамваями и гудящий автомобильной рекой. «Река» эта омывала остров Сквер или Сквер-остров, оставив его в том другом мире, где еще не вышли из моды камзолы и мушки на щеке…
– И, представляешь, бабушка сложила спицы, убрала их в сумку и развернула свое вязанье… Оказалось, она вязала… обыкновенную мочалку. Представляешь?
– Представляю, – говорил он, улыбаясь и глядя куда-то в глубину ее серых, как питерское небо, глаз…
– Ты не слушаешь меня, ты ничего не слышишь, – говорила она своей милой скороговоркой, произнесенной с легкой укоризненной интонацией.
Он улыбался ей, ничего на это не отвечая, и рассказывал, как сидел на скамейке у метро, пока ждал ее, как наблюдал за девушкой в розовом беретике, раздающей женщинам розовые, под цвет беретика, буклеты, рассказывал о том, как трогательно мила была эта девушка в своей юной застенчивости, в своей некрасивости, которую подчеркивала беззащитно-наивная ее униформа, чем-то напоминающая школьные платьица тех лет, когда он и она были молодыми и жили в одном городе под серым балтийским небом, разделяющим их, как океан…
И тот город, называвшийся прежде иным именем, они вспоминали, как нечто давно прошедшее, канувшее в Лету и столь же нереальное, как шпаги, кринолины и рыцарская честь. И они мысленно блуждали в каменных лабиринтах этого города, по которому невозможно было прокатиться на роликах или на «крутом» автомобиле «порше», потому что ни роликов, ни «порше», не было тогда в этом городе, они атрибуты нового, чуждого им времени, в котором от старого времени остались районные газеты и дома-корабли, в одном из которых, на Гражданке, за Ручьем, живет она в двухкомнатной квартирке на четвертом этаже.
И дом-корабль, с его поднятыми под потолок окнами и скрипучими, как корабельные снасти, дверями, никуда не плывет, никуда не стремится, он стоит на приколе на краю города неподалеку от лесопарка.
И она, эта милая женщина («милая и добрая» – грустно поправила она) сама пускается в самостоятельное ежегодное путешествие то в Швецию, то в Испанию, то на сказочный остров Бали…
Ей холодно одной и одиноко…
Ей и сейчас не согреться после бокала итальянского вина «Ламбруско». Название вина он записал на столовой салфетке, чтобы не забыть…
А все остальное он и так никогда не забудет: ни ее сияющего взгляда, ни садовой скамейки с голубями, ни крохотного кафе со странным для кафе названием «Акварель», ни их «путешествия» по этому кафе от столика к столику (за одним столиком ей поддувало в ноги из раскрытой настежь двери, за другим, с видом на кухню, сидеть было неудобно). Лишь третий столик, где, наконец, расположились они, расставив сумки по пустым стульям, чтобы никто не сел рядом, стал их настоящим пристанищем. И ни прожженная сигаретами скатерть, ни музыка, назойливо бьющая по ушам, ни даже ненавистный ей сигаретный туман, ничто не мешало им жить в этом специально созданном для них мире, где кроме ее и его, не было никого.
Никого. Ни единой живой души.
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Помню, как мы с отцом поздней осенью ездили на сельповском «козелке» в Крюкшино, как завязли в грязи; машина заглохла, стартер натужно визжал, но оживить мотор был не в силах…
Вцепившись в поручень, я замер на переднем сиденье, всем своим существом сопереживая и отцу, непривычно растерянному, и машине, по самые ступицы увязшей в хляби дорожной. Отец ушел искать трос и тракториста, а я остался сторожить машину. Холодно мне было, бесприютно, и не видел я ничего, кроме пустынной дороги, изрезанной глубокими кривыми колеями…
Пошел снег, легкий, игривый, как сон, и из этого сна, спустя какое-то время, возник отец с хмурым, неразговорчивым мужиком в засаленной телогрейке; они о чем-то поговорили, мужик вытащил из-под заднего сиденья ржавый зазубренный топор с расхлябанным топорищем, срубил несколько хилых березок в придорожном болоте, умело подсунул их под колеса, сел за руль, с пол-оборота завел машину и, газанув взад и вперед, выехал на ровное место.
Они еще о чем-то с отцом поговорили, распили незнамо откуда взявшуюся маленькую, разлив водку по грязным, захватанным стаканам, извлеченным из бардачка, закусили карамельками, оставшимися конфетками угостив меня, покурили и, крепко пожав друг другу руки, распрощались как братья.
Все это время я сидел в машине и сквозь неустанное мельтешение снега наблюдал за мужиками, устроившими дорожную трапезу прямо на капоте. Мне было тепло, покойно, и я уже не чувствовал ни сырости, ни сквозняков, пронизывающих стужей, и даже разбитая тракторами дорога уже не казалась мне скучной. Припорошенная снегом, она напоминала Млечный путь, таинственно мерцавший с высоты морозными зимними ночами, когда мы с отцом возвращались по субботам из бани. Зажав под мышкой сверток с бельем, отец шагал впереди, я едва поспевал за ним, стараясь ступать в отцовские следы…
Хлопнув дверцей, отец сел за руль, завел машину, и мы поехали навстречу снегу, терзая колесами Млечный путь проселочной дороги.